Поход 29-го года
|
В «Анналах Тутмоса III» говорится, что на 29-м году его царствования был совершен пятый поход, а именно поход в страну Джахи. Поэтому многие исследователи считали, что Тутмос III в течение 24-28-го годов своего царствования совершил три похода в Сирию, причем находили возможным отнести второй, третий и четвертый походы к определенным годам. Однако в источниках этого времени, в частности в «Анналах», не сохранилось решительно никаких данных, которые позволили бы отнести эти походы к тому или иному году. Поэтому совершенно прав Грапов, который в своем исследовании, [125] посвященном «Анналам», указывает на то, что в «Анналах» под 24-м годом сохранилось лишь начало перечня дани, а под 25-28-м годами вообще ничего не сохранилось. Таким образом, всякого рода догадки о том, когда происходили второй, третий и четвертый походы Тутмоса III, в настоящее время все еще следует считать необоснованными.66) Пять лет, протекшие между первым и пятым походом Тутмоса III в Переднюю Азию, были годами накопления сил для обеих враждовавших сторон. Сиро-финикийские княжества образовали за это время новую антиегипетскую коалицию, в которой значительную роль стали играть как прибрежные финикийские города, так и города Северной Сирии, среди которых в это время стал выдвигаться Тунип.67) С другой стороны, Египет, мобилизуя как свои собственные ресурсы, так и ресурсы завоеванных ранее областей Палестины и Южной Сирии (Хару и Нижнего Речену), стал готовиться к новой большой военной кампании в Передней Азии. Прекрасно понимая, что Египет никогда не сможет господствовать в Сирии, если он не встанет прочной ногой на финикийском побережье, Тутмос III организовал флот, задачей которого было покорение городов финикийского побережья и охрана морских коммуникаций, ведших из Финикии в Египет. Весьма возможно, что этим флотом командовал именно тот старый сподвижник не только Тутмоса III, но еще и Тутмоса II, вельможа Небамон, которого Тутмос III назначил командиром «всех кораблей царя».68) Пятый поход Тутмоса III имел целью изолировать Кадеш от его сильных союзников на финикийском побережье и тем создать благоприятные условия либо для захвата Кадеша, сильнейшего города средней Сирии и наиболее упорного врага Египта, либо для глубокого проникновения в долину Оронта с целью полной блокады и дальнейшего захвата Кинзы-Кадеша. Именно поэтому пятый поход был новым этапом в серии завоевательных походов Тутмоса III в Сирию и в качестве такового описан в особой главе «Анналов», которая снова начинается торжественным вступлением: «Приказал его величество, чтобы были записаны победы, которые даровал ему его отец [Амон], на каменной стене храма, которую соорудил его величество заново [для отца своего Амона]..., [как приказано было самим этим богом, чтобы описан был каждый] поход под своим именем вместе с добычей, доставленной его величеством из этого [похода]...».69) Стараясь изобразить этот поход, так же, как и первый, оборонительным походом, предпринятым царем против азиатских «повстанцев», летописец продолжает в следующих словах: «Год 29-й. И вот его величество [в Джа]хи опустошал страны, восставшие против него, [126] во время пятого победоносного похода».70) К сожалению, в настоящее время не представляется возможным отождествить название города Уарчет Стремление Египта захватить не только города финикийского побережья, но и морские коммуникации подчеркнуто и отрывке из «Анналов», в котором описывается захват египтянами «двух кораблей (снаряженных вместе с их командой. — В. А.) и нагруженных всякими вещами, рабами и рабынями, медью, свинцом (или оловом. — В. А.), минералом исмери и всеми прекрасными вещами».72) Среди захваченной добычи писец отметил рабов, рабынь и металлы в качестве наиболее желанных для египтян ценностей. Эти слова писца ясно указывают на экономическое значение походов Тутмоса III в Переднюю Азию. На обратном пути египетский фараон опустошил большой финикийский город Иартиту 66) В «Анналах Тутмоса III» непосредственно после описания жатвы в окрестностях Мегиддо перечисляются приношения вождей Речену «в 40-м году». Брэстед и ряд других исследователей считают, что цифра «40» поставлена писцом ошибочно и что здесь следует читать «24». Однако Зете, критически издавший тексты XVIII династии, оспаривает это мнение и полагает, что в данном случае цифра «40» поставлена писцом правильно и что весь этот отрывок летописи относится к описанию событий, происходивших в 40-м году царствования Тутмоса III. Поэтому в настоящее время мы не имеем возможности признать, что на 24-м году своего царствования Тутмос III совершил поход в Переднюю Азию. По мнению Брэстеда, на 25-м году царствования Тутмоса III имел место поход в Сирию, который якобы упоминается в надписи из «Праздничного храма» [231] в Карнаке, изданной еще Марриэтом. Как известно, эта надпись датирована 25-м годом Тутмоса III, однако она не имеет никакого отношения к «Анналам» и в ней не упоминается военный поход, совершенный царем в этом году в Сирию, а говорится лишь, что эти растения были доставлены царю «после того, как направился его величество в Верхнее Речену». Зете полагает, что в одной надписи, хранящейся в Каирском музее и изданной им (Urkunden.., IV, 675-678), описываются события, относящиеся ко второму походу Тутмоса III, происходившему на 25-м году его царствования. Но в этой надписи, кстати говоря, сильно испорченной, не сохранилось ни даты, ни таких данных, которые позволили бы считать ее описанием такого рода похода. Грапов указывает, что ни язык, ни содержание этой фрагментарной надписи не дают возможности принять гипотезу Зете. Брэстед предполагает существование четвертого похода Тутмоса III между 26 и 29-м годами его царствования, но принужден признать, что «описание этого похода, если оно и существовало, утеряно». Таким образом, все попытки исследователей отнести второй, третий и четвертый походы Тутмоса III к определенным годам его царствования не могут быть доказаны ясными показаниями источников, чем объясняется вполне обоснованный скептицизм Грапова. H. Grapow. Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten.., S. 10, 12-17 сл.; K. Sethe. Urkunden.., IV, 668-679; J. H. Breasted. Ancient Records of Egypt, vol. II, p. 190; Д. Г. Брэстед. История древнего Египта, т. I, стр. 309-311. 67) См. В. И. Авдиев. Военная история древнего Египта, т. I, стр. 249-250. См. там же библиографию вопроса. 68) «Recueil de travaux, relatifs à laphilologie égyptienne et assyrienne», IX, p. 95-97; J. H. Breasted. Ancient Records of Egypt, vol. II, p. 302-303. 69) K. Sethe. Urkunden.., IV, 684. 70) K. Sethe. Urkunden.., IV, 685. 71) K. Sethe. Urkunden.., IV, 686. 72) K. Sethe. Urkunden.., IV, 866. 73) Многие исследователи, в частности Д. Г. Брэстед и Б. А. Тураев, видели в египетском названии города Иартиту, упоминаемом в «Анналах Тутмоса III», название финикийского города Арада. Однако еще Бурхардт и Эд. Мейер сомневались в правильности этого отождествления и полагали, что египетское название «Иартиту» обозначало город Ардату, расположенный в долине Элейтероса. Эд. Мейер не допускал возможности того, чтобы Арад, сильная крепость, расположенная на острове, мог быть занят египетской сухопутной армией. И действительно, непонятно, каким образом египтяне могли занять Арад, расположенный на острове на расстоянии 3 км от финикийского берега. Хорошо известно, что Арад был одной из наиболее недоступных крепостей Финикии. Крепостные стены Арада, частично сохранившиеся до нашего времени, были чудом фортификационной техники того времени, и только после длительной осады с моря египтяне могли бы занять Арад. Конечно, это событие было бы более подробно описано в «Анналах Тутмоса III», тем более, что могущество Арада распространялось на значительные районы Финикии и Арад часто возглавлял антиегипетские коалиции. С другой стороны, отождествлению Иартиту с Арадом противоречит контекст «Анналов Тутмоса III», в котором говорится, что Иартиту был опустошен египетским войском на обратном пути, когда оно двигалось на юг, и что фараон, заняв Иартиту, «вырубил все его хорошие деревья». Вряд ли в островной крепости могли находиться большие насаждения деревьев. В Голенищевском [232] словарике встречается название страны 74) K. Sethe. Urkunden.., IV, 687. 75) K. Sethe. Urkunden.., IV, 688. |

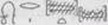 , который, как указывает летописец, был захвачен во время этого похода. Судя по дальнейшему тексту «Анналов», можно думать, что Уарчет был довольно крупным финикийским городом, так как в нем, по словам летописца, находился «склад жертв» и, очевидно, кроме того, святилище Амона-Горахте, в котором фараон принес жертвы фиванскому верховному богу. По-видимому, в этом большом финикийском городе находилась довольно значительная египетская колония. Раскопки в Библе, обнаружившие остатки египетских храмов, ясно показы кают, что в некоторых больших финикийских городах жило много египтян и были построены египетские храмы. Имеются основания предполагать, что Уарчет находился сравнительно недалеко от Тунипа, входя в сферу влияния этого крупного города Северной Сирии, так как фараон при занятии Уарчета захватил вместе с другой большой добычей «гарнизон этого врага из Тунипа, князя этого города».
, который, как указывает летописец, был захвачен во время этого похода. Судя по дальнейшему тексту «Анналов», можно думать, что Уарчет был довольно крупным финикийским городом, так как в нем, по словам летописца, находился «склад жертв» и, очевидно, кроме того, святилище Амона-Горахте, в котором фараон принес жертвы фиванскому верховному богу. По-видимому, в этом большом финикийском городе находилась довольно значительная египетская колония. Раскопки в Библе, обнаружившие остатки египетских храмов, ясно показы кают, что в некоторых больших финикийских городах жило много египтян и были построены египетские храмы. Имеются основания предполагать, что Уарчет находился сравнительно недалеко от Тунипа, входя в сферу влияния этого крупного города Северной Сирии, так как фараон при занятии Уарчета захватил вместе с другой большой добычей «гарнизон этого врага из Тунипа, князя этого города».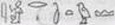
 , которое Гардинер сопоставляет е группой хеттских стран Арзава. Это название мы находим и в Кадешских текстах в форме
, которое Гардинер сопоставляет е группой хеттских стран Арзава. Это название мы находим и в Кадешских текстах в форме  (вариант
(вариант  ). Раньше это название сопоставлялось с названием финикийского города Арада (см. W. M. Müller. Asien und Europa, S. 186 ff.). В свое время Бурхардт, а теперь Гардинер, на основании изучения словариков, пришли к выводу, что это название обозначало не финикийский город Арад, а совершенно другую территорию. Так как это название встречается в Голенищевском словарике и Кадешских текстах наряду с другими названиями стран и племен Малой Азии, Гардинер отождествляет его с хеттским названием «Арзава». Это же название встречается и в надписях из Мединет-Абу. Но упомянутое в этих надписях название хеттского города
). Раньше это название сопоставлялось с названием финикийского города Арада (см. W. M. Müller. Asien und Europa, S. 186 ff.). В свое время Бурхардт, а теперь Гардинер, на основании изучения словариков, пришли к выводу, что это название обозначало не финикийский город Арад, а совершенно другую территорию. Так как это название встречается в Голенищевском словарике и Кадешских текстах наряду с другими названиями стран и племен Малой Азии, Гардинер отождествляет его с хеттским названием «Арзава». Это же название встречается и в надписях из Мединет-Абу. Но упомянутое в этих надписях название хеттского города  , который штурмует Рамзес III, вряд ли можно считать названием Арзава. Гардинер задается в данном случае вопросом, не является ли это название египетским обозначением сиро-финикийского города Арада. В Болонском папирусе № 1086 упоминается раб из страны Иараду
, который штурмует Рамзес III, вряд ли можно считать названием Арзава. Гардинер задается в данном случае вопросом, не является ли это название египетским обозначением сиро-финикийского города Арада. В Болонском папирусе № 1086 упоминается раб из страны Иараду 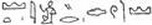 , носивший сирийское имя
, носивший сирийское имя  . Гардинер весьма обоснованно полагает, что в данном случае упомянут сирийский город Арад. Подробно разобрав весь этот вопрос, Гардинер указывает на то, что местоположение Ардаты, упоминаемой в амарнских письмах, не установлено и что Готье в своей специальной работе не проводит различия между названиями Арзава, Арвад и Ардата. Однако вышеприведенные факты позволяют установить различие между хеттской страной Арзава, упоминаемой в словариках, Кадешских надписях и текстах из Мединет-Абу и расположенной на малоазийском берегу Средиземного моря к юго-западу от страны Хатти, приблизительно на территории позднейшей Памфилии, и между хорошо известным финикийским городом Арвадом, а также Ардатой, упоминаемой в амарнских письмах. А. Н. Gardiner. Ancient Egyptian Onomastica, vol. I. Oxford, 1947, p. 129-132; M. Burchardt. Altkananäische Fremdworte und Eigennamen im Ägyptischen, № 123. Leipzig, 1910; Ed. Meyer. Geschichte des Altertums, Bd. II, l, S. 127; J. H. Breasted. Ancient Records of Egypt, vol. II, p. 197; Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I. M., 1935, стр. 267; В. И. Авдиев. Военная история древнего Египта, т. I, стр. 232-234; Д. Г. Брэстед. История Египта, т. I. стр. 312.
. Гардинер весьма обоснованно полагает, что в данном случае упомянут сирийский город Арад. Подробно разобрав весь этот вопрос, Гардинер указывает на то, что местоположение Ардаты, упоминаемой в амарнских письмах, не установлено и что Готье в своей специальной работе не проводит различия между названиями Арзава, Арвад и Ардата. Однако вышеприведенные факты позволяют установить различие между хеттской страной Арзава, упоминаемой в словариках, Кадешских надписях и текстах из Мединет-Абу и расположенной на малоазийском берегу Средиземного моря к юго-западу от страны Хатти, приблизительно на территории позднейшей Памфилии, и между хорошо известным финикийским городом Арвадом, а также Ардатой, упоминаемой в амарнских письмах. А. Н. Gardiner. Ancient Egyptian Onomastica, vol. I. Oxford, 1947, p. 129-132; M. Burchardt. Altkananäische Fremdworte und Eigennamen im Ägyptischen, № 123. Leipzig, 1910; Ed. Meyer. Geschichte des Altertums, Bd. II, l, S. 127; J. H. Breasted. Ancient Records of Egypt, vol. II, p. 197; Б. А. Тураев. История древнего Востока, т. I. M., 1935, стр. 267; В. И. Авдиев. Военная история древнего Египта, т. I, стр. 232-234; Д. Г. Брэстед. История Египта, т. I. стр. 312.